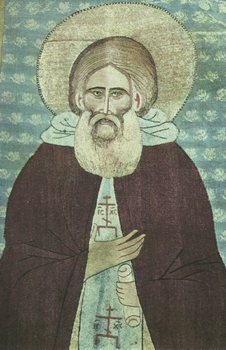Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
По-разному, братия и сестры, является в людях избрание Божие: кто-то возрастает от младых лет в благочестивой, богобоязненной семье; кто-то обращается к Богу и решается посвятить себя на служение Ему под влиянием тех или иных чудесных обстоятельств; кто-то, напротив, приходит к Богу с распутий греха и порока, ужаснувшись внезапно открывшейся ему бездны своих преступлений и чаемого за них нелицеприятного суда.
Но совершенно необычно, исключительно то знамение Божественного избранничества, которое явилось на великом угоднике Христовом, преподобном и богоносном отце нашем Сергии, память обретения честных мощей которого мы ныне празднуем, ибо он был избран Господом на служение Себе, еще находясь в материнской утробе. И местом явления избрания сего стал храм Божий, в котором во время совершения богослужения трижды, в честь Триипостасного Божества, возгласил младенец из чрева матери своей, заставив подивиться и задуматься о столь необычайном событии всех присутствующих.
Такое чудо сотворил со избранником Своим еще до рождения его на свет сей Господь. Но ошибся бы тот, кто решил бы, что благодаря этому дивному избранию и стал преподобный Сергий тем, кем стал,— великим подвижником и чудотворцем, отцом неисчетного сонма монашествующих и наставником всех ищущих спасения, ибо не просто так, по некоему как бы произволу, подает Господь человеку подобную благодать. Нет, Господь предвидит будущее произволение человека, которое проявит он сам, и, упреждая его, подает человеку Свои дары как бы еще совсем незаслуженно. Предвидел Господь и будущее произволение угодника Своего, предвидел его всеусердную, вседушную, безграничную к Себе любовь и потому Сам прежде явно для всех засвидетельствовал о нем как об избранном сосуде Своем.
Бывает, братия и сестры, конечно, и так, что великие дары и великую благодать получает человек от Бога, но впоследствии своей нерадивой жизнью утрачивает ее. И преподобный Варсанофий Великий говорит: потому многие, получив благодать, затем отпали, что не хранили ее со страхом Божиим.
Но не так было с преподобным Сергием. Если посмотреть на жизнь его, то не увидим мы в ней и малого следа каких бы то ни было преткновений или уклонений от пути Божия. От самого младенчества своего шествовал он просто и ровно, восходя от земли к небесам, не привязываясь ни к чему временному. И сообразно с тем видим мы, что ни в чем Господь Промыслом Своим не оставлял его, но бережно сохранял, научая всему потребному для спасения души, а паче всего боголюбезнейшему смирению, совершенному ненадеянию на себя и всецелому упованию на Него, Единого всемогущего, вся содержащего и всем повелевающего. Так, в юных годах попускает Господь преподобному — в ту пору еще Варфоломею — немало попечалиться и поскорбеть. Ему, столь кроткому и богобоязненному отроку, совершенно не дается учеба. Смеются и упрекают товарищи, огорчаются родители, грозят и наказывают учителя, сам он прилагает все свое старание, но не может осилить грамоты. Казалось бы, малая вещь, но в то же время сколь тягостное испытание для детского сердца! Часто в уединении, укрывшись от взоров людских, плакал Варфоломей горько о своей неспособности к учению. Но не только плакал, а и воссылал теплейшие молитвы ко Господу, прося просветить его несовершенный ум.
И Господь услышал эти детские мольбы. Он послал отроку дивного ангелоподобного старца, после молитвы которого и вкушения преподанной им частицы просфоры Варфоломей по благодати Божией преодолел запинавшее его дотоле неможение и вскоре опередил в учении всех прежде смеявшихся над ним товарищей, чем поверг и их, и учителей своих в немалое удивление.
Так преподал Господь отроку полезнейший урок, научив его и в дальнейшем никакого успеха, никакого доброго дела в жизни не ожидать от себя и себе не приписывать, но всего просить у Него, всесильного Бога, и все, что удастся исполнить, достичь, относить единственно к Его щедрости и неизреченной милосердной благоподательности. И оттого во всей дальнейшей жизни преподобного видим мы эту удивительную покорность Промыслу Божию, удивительную преданность Божественной воле, глубочайшую и непоколебимейшую веру, теплейшей к Богу любовию споспешествуемую.
Словно ясный, чистый огонек теплилась в сердце юного отрока любовь ко Господу, постепенно все более и более разгораясь и все менее оставляя в нем привязанности и любви к этому миру, так что наконец не в силах, да и не желая противиться сему всепобеждающему чувству, решается юный Варфоломей, оставив все, посвятить себя единственно на служение Богу. И, исполнив волю своих родителей, упокоив их старость, оставляет он действительно все: и мир, и все стяжания, и всех близких ему людей — и удаляется на самое строгое, уединенное житие в лесные места, удаленные не только от жилищ, но и от самих человеческих путей. Что сказать о подвижнической жизни его? Этой жизни не выдержал старший брат его Стефан [1], с которым первоначально делил он уединение. Жизнь сия была сурова, полна лишений и опасна. Брань со страстями и с более всего из них восстающими на отшельника унынием и боязливостью, искушения бесовские, а также и нередкие видимые явления демонов, страшных врагов нашего спасения — все это прошел преподобный, как некое огненное горнило, нимало не поколебавшись в принятом раз и навсегда намерении своем работать Господу. Проходит время, и принимает он монашеский постриг от подвизавшегося неподалеку от тех мест старца игумена Митрофана, по удалении которого вновь остается один, восходя в своем уединении от силы в силу, совершая свой путь к сияющим обителям Небесного Царства.
Но недолго попускает Господь скрываться ему от взоров людских, желая, чтобы преподобный не только свою душу спас и сам наследовал вечную жизнь, но чтобы он послужил и делу спасения других. И вот слава о высоком и добродетельном житии радонежского подвижника все более и более распространяется, и начинают стекаться к нему во множестве люди — кто за утешением в скорби, кто за советом, кто испросить его святых молитв, а кто для того, чтобы, вручив себя руководству преподобного, поработать Богу в ангельском чине.
И вот собирается вокруг преподобного Сергия замечательное монашеское братство, целый сонм добродетельнейших и преподобнейших учеников. Так, в заботе о них, в неусыпном попечении об их духовном совершенствовании, в заботах о притекающих к нему за утешением людях, в неустанных подвигах и трудах проходит жизнь преподобного. Настает день отшествия его, и, оплакиваемый безутешными учениками, оставляет он этот мир, перейдя в мир несравненно лучший.
Таково вкратце житие великого угодника Божия преподобного Сергия, такова канва внешних событий, лишь немного приоткрывающая тайну боголюбивого его сердца, сокровенную в нем и в Боге жизнь, ведомую лишь самому подвижнику и возлюбленному им от младых ногтей Господу.
Дивную обитель в честь Животворящей Троицы оставил по себе святой Сергий, великую Лавру, ставшую жилищем множества святых иноков на долгие века. Но еще более дивную обитель устроил он в сердце своем, со- делав его прекрасным храмом Триипостасного Божества.
Огромен этот мир, и в нем ни на мгновение не прекращается движение — борьба за обладание его вожделенными для людей благами. И, как следствие этой борьбы, на протяжении веков разгораются и затухают войны, возникают и рушатся империи, восходят к славе и власти сильные мира сего, чтобы затем бесславно сойти в безвестность.
Но вот крохотная, убогая келейка в непроходимом лесу, а в ней — облаченный в поношенные ризы старец, который в очах Божиих дороже всего, что только может быть в этом мире, которого недостоин, по слову апостола, и весь этот мир (см.: Евр. 11, 38). И если мы задумаемся об этом, братия и сестры, если как следует в это вникнем, то тогда, конечно, поймем, что же имеет в жизни нашей истинную цену, а что есть призрак, который неизбежно исчезнет, когда воссияет перед нами наконец Солнце Правды — Христос.
«Нет такой близости,— говорит в своих «Духовных беседах» преподобный Макарий Великий,— такой близости и взаимности, какая есть у души с Богом и у Бога с душою. Бог создал два мира — один горе, для служебных духов, другой долу, для людей. Создал же небо и землю, солнце и луну, воды, деревья плодоносные, всякие роды тварей. Но ни в одной из этих тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти Его, однако же не утвердил в них престола, не установил с ними общения, благоволил же о едином человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая»[2]. Поэтому человек драгоценнее всех тварей, не только видимых, но и невидимых, то есть Ангельских Сил,— столь высоко достоинство человека, человеческой души. Но если так дорога вообще душа человека в очах Божиих, то сколь же драгоценна душа, Богу себя посвятившая, ради Него ото всего отрекшаяся, очистившаяся от страстей! О ней радуются, будучи сотаинниками и собеседниками ее, Ангелы небесные, взирающие на нее как на некое дивное диво, ею утешаются люди, и в ней, как сказано, упокоевается Сам Господь. Все это видим мы в преподобном Сергии, видим в нем человека в той славе и красоте образа и подобия Божия, которую мы теряем, но которую призваны хранить.
Воистину верно, братия и сестры, слово, что чем решительнее отвергается человек ото всего ради Бога, тем более дает человеку взамен Сам Господь, так что никто возложивший на Него упование не оказывается посрамленным. Ото всего мира отрекся преподобный, но прошло время, и мир сам устремился к нему, припал к его ногам, прося помощи в своем бессилии. Бывают действительно такие моменты, когда люди познают свою немощь во всей полноте, видят, что ничего, решительно ничего не могут их убогие человеческие силы. И тогда они прибегают к тем, кто сам еще в теле стал храмом Божества. Так в глухую и уединенную пустынь Радонежскую стекались отовсюду люди, несущие преподобному свои немощи и скорби в надежде на то, что он умолит о них Бога и уйдут они утешенными и помилованными. Само слово его, само благословение преподобного — великая драгоценность для страждущей души. Вот князь Димитрий [3], напутствуемый благословением святого старца, отправляется сражаться на Куликово поле, чтобы одержать там блистательную победу. Вот суровый рязанский князь Олег [4] смягчается от кротких увещаний преподобного. Вот отрок, умерший на руках своего отца, оживает по молитвам святого Сергия... И сколько еще дивных, неисчислимых чудес совершал Господь через угодника Своего, так что поистине никто не отходил из обители преподобного тощ и не утешен, как говорил об этом он сам.
Но если так было при жизни подвижника, то тем паче по кончине его, ибо ныне уже не с грешной земли возносит молитвы свои преподобный, но пред Престолом Божиим ходатайствует о приходящих к нему. Сколько раз являлся он прежде призывающим имя его в молитве, видимым образом посещая и защищая терпящую бедствие Лавру свою!
И ныне также является он, и помогает, и утешает прибегающих к нему. Сотни, тысячи людей приходят ежедневно к раке его мощей в Троицком соборе Лавры, все так же неся ему свои скорби и беды, испрашивая, точно у живого, совета и вразумления. И если бы открылась вдруг завеса, скрывающая от нас мир духовный и пути Промысла Божия, то какую картину увидели бы мы! Сколько людей обретало, да и обретает у этой раки исцеление от своих недугов, сколько осушилось здесь проливающих слезы очей, сколько человеческих душ, согбенных, придавленных тяжестью грехов и страстей к самой земле, распрямилось, сбросив с себя этот тягостный груз! Порой и не с бедою какой, и не со слезной мольбой припадет человек к раке преподобного, а просто, оказавшись рядом с ней, преклонит колена, обратится с кратким молитвенным словом, да и вскоре забудет о том. Забудет он, но не забудет преподобный. И потом, быть может, спустя годы, неожиданно скажется в самой жизни, в течении ее дел эта молитва, и что-то отзовется в сердце человека неожиданным воспоминанием, заставит увидеть связь между сегодняшним днем и теми мгновениями у раки угодника Божия.
Многое сокрыто от нас. Часто не знаем, от каких бед и чьими молитвами избавлены мы, не знаем опять-таки, по чьим молитвам исполнилась наша жизнь радостью и озарил ее свет. Лишь изредка, на какие-то краткие мгновения что-то приоткрывается для нас — как правило, в откровениях и прозрениях людей праведных и святых.
На краю величайшего бедствия находилась Москва в 1521 г., когда несметные татарские полчища под предводительством Махмет-Гирея, несшие с собой смерть и разрушение, подступили к ней. Неоткуда было ждать тогда помощи, и люди плакали и молились, чтобы помиловал их Господь, сокрушаясь о грехах своих. И было тогда в те дни видение одной слепой престарелой монахине Вознесенского монастыря. Видела она духовными очами, как через Спасские ворота выходил из Кремля целый сонм российских святителей, несущих перед собой чудотворную Владимирскую икону Божией Матери. И ясен был смысл видения сего: на разграбление врагу, на погибель оставлялась Москва, оплот земли Русской, за грехи народа ее. Но вот встретили святителей на пути преподобный Сергий и преподобный Варлаам Хутынский, вопия, на кого же оставляют они град. И со слезами и скорбью отвечали святители: «Много молили мы всемилосердного Господа Бога и Пресвятую Богородицу об избавлении от предстоящей скорби. Но Господь повелел нам не только самим выйти из столицы, но и вынести с собой чудотворную икону Пресвятой Его Матери, потому что люди презрели страх Божий и о заповедях Его вознерадели». И казалось, нет уже спасения Москве. Но умолили преподобные Сергий и Варлаам святителей не оставлять города и вместе с ними обратились с мольбой о стольном граде и людях его ко Господу и Царице Небесной. И умилостивился их молитвой Господь. Святители с иконой возвратились в город, и вскоре татары, напуганные небесным знамением, сами отступили от Москвы, обратившись в паническое бегство.
И сейчас, к сожалению, много прогневляем мы Господа и куда меньше стало в нас страха Божия и ревности о заповедях Христовых. И, наверное, потому не раз в продолжение короткого времени пережило наше Отечество бедственные, скорбные дни. Однако и доселе стоит оно, хранимое ходатайством небесных покровителей своих, среди которых великий молитвенник земли Русской преподобный Сергий Радонежский.
Действительно, духовный мир скрыт от нас, скрыт, но тем не менее мы можем быть уверены, что ничего нет в нем случайного. Все взаимосвязано в нем и в явлениях его, все проникнуто духом Божественной любви к нам, той любви, которая наполняла сердца святых еще при жизни на земле и теперь ходатайствует о нас устами их на небесах.
Мы исповедуем, что над Лаврой и обитателями ее, над молящимися в ней простерт особый молитвенный покров преподобного Сергия, ибо всегда печется он о своей обители. Но верим и в то, что этот покров простирается и над нами, над нашим Подворьем [5], над этим храмом, который, будучи как бы частью Лавры, связан с ней невидимыми духовными узами. И потому каждый, кто посещает этот храм, находит в преподобном Сергии своего верного покровителя. И пусть мысль об этом воодушевляет нас на большую ревность, на большее дерзновение в молитвах к нему. Мир святых всегда близок к нам, только бы мы не удалялись от него. Они всегда помнят о нас, только бы мы не забывали о них. Они всегда слышат нас, только бы сами мы не были немы.
Будем же чаще молитвенно обращаться к преподобному Сергию, будем прибегать к нему как к скорому помощнику в многоразличных нуждах и скорбях своих, будем всегда просить у него помощи и вразумления в затруднительных обстоятельствах. И он, милостивый и любвеобильный угодник Божий, не презрит наших молитв, особенно если будут воссылаться они с теплою, сердечною верой. Сам нашедши свой путь в вечные небесные обители, он желает указать его нам, братиям своим меньшим; желает, чтобы и мы в день Страшного суда услышали, подобно ему, обращенные к нам слова Спасителя: Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф. 25, 34). Аминь.
[1] Похоронив родителей, Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Сначала они поставили келию, а потом небольшую церковь, и с благословения митрополита Феогноста она была освящена во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился с иноком Алексием, впоследствии митрополитом Московским (память 12 февраля).
[2] Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. Клин: фонд «Христианская жизнь», 2001. С. 285.
[3] Дмитрий I Иванович (1350-1389), прозванный Донским за победу в Куликовской битве,— князь Московский (с 1359) и Великий князь Владимирский (с 1363). Сын князя Ивана II Красного и его второй жены княгини Александры Ивановны. В правление Дмитрия Московское княжество стало одним из главных центров объединения русских земель, владимирское великое княжение стало наследственной собственностью московских князей, были одержаны значительные военные победы над Золотой Ордой, построен белокаменный Московский Кремль.
[4] Олег Иванович Рязанский, в схиме Иоаким (ум. в 1402 г.) — великий князь Рязанский с 1350 г.
[5] Имеется в виду Московское подворье Троице-Сергиевой Лавры.